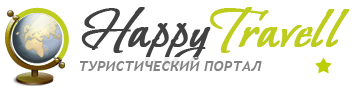В следующем концентре находился сад, еще дальше — сельскохозяйственные угодья и леса для охоты. В структуру усадебного освоения включались деревни с приписанными к данному землевладельцу крестьянами.
В следующем концентре находился сад, еще дальше — сельскохозяйственные угодья и леса для охоты. В структуру усадебного освоения включались деревни с приписанными к данному землевладельцу крестьянами.
Кроме частичной перепланировки территории, важнейшим нововведением в ландшафты края стало устройство садов и парков. По тому, как выглядел парк, судили о вкусах, «просвещенности» и материальном положении хозяина усадьбы. Поэтому в конце XVIII — начале XIX в. на сады тратились средства, сопоставимые со стоимостью возведения дворцов. В этот период паркостроительство в России стало своего рода культом, а лучшие образцы садово-паркового искусства впоследствии так и не были превзойдены.
Д. С. Лихачев в книге «Поэзия садов» детально рассмотрел художественный и философский смысл, который вкладывался в создание парков и времяпрепровождение в них. Сад был средством познания мира, изменения его к лучшему и попыткой создания гармоничной системы взаимоотношений человека с природой. Наиболее выдающиеся парки устраивались как модели идеальных ландшафтов, где использовались лучшие свойства реальных ландшафтов.
При сооружении парков ведущим был принцип садового разнообразия, рассматривавшегося как символ красоты. Однако в каждую эпоху развития садово-паркового искусства этот принцип понимался по-разному. «Регулярное» разнообразие «французских» садов первой половины XVIII в. сменялось пейзажным разнообразием садов «английских». Но эти традиционные названия, как показал Д. С. Лихачев, в значительной мере условны. Речь идет, скорее, о постепенной смене садовых стилей от ренессанса и барокко к рококо и романтизму. Если идея регулярных садов начала XVIII в. была в назидательности и максимальном отличии от окружающего ландшафта, то к концу столетия парки становились постепенным переходом от жилища к «нетронутой» природе, где человека должны были охватывать воспоминания и переживания. При этом в пейзажных парках обычно сохранялись «островки регулярности» — «собственные» и «голландские» сады, примыкавшие к дворцам.