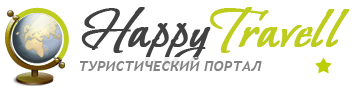Петербург был и до сих пор остается самым крупным поглотителем прилегающих населенных пунктов, причем это касается не только деревень, но и поселков городского типа и даже городов. Так, за послевоенный период перестали существовать как самостоятельные города Урицк и Красное Село, рабочие поселки Парголово, Горелово и др. Города и поселки, имевшие статус «территорий, подчиненных мэрии С.-Петербурга» — Колпино, Пушкин, Сестрорецк, Зе — леногорск и др., — стали обычными районами города в 1997 г. Таким образом, за XX столетие городская территория выросла не менее чем в 10 раз.
Петербург был и до сих пор остается самым крупным поглотителем прилегающих населенных пунктов, причем это касается не только деревень, но и поселков городского типа и даже городов. Так, за послевоенный период перестали существовать как самостоятельные города Урицк и Красное Село, рабочие поселки Парголово, Горелово и др. Города и поселки, имевшие статус «территорий, подчиненных мэрии С.-Петербурга» — Колпино, Пушкин, Сестрорецк, Зе — леногорск и др., — стали обычными районами города в 1997 г. Таким образом, за XX столетие городская территория выросла не менее чем в 10 раз.
Как отразились процессы урбанизации и разрушения системы сельских поселений во второй половине XX в. на ландшафтах региона?
При разбросанности и мелкоконтурности сельскохозяйственных угодий, а также плохих сельских дорогах, переселение крестьян в укрупненные поселки неизбежно означало забрасывание и последующее зарастание огромных площадей отдаленных полей и сенокосов. Уничтожение хуторов и бегство населения из деревень, объявленных неперспективными, привело к таким же последствиям. Процесс послевоенного сельского запустения нельзя рассматривать просто как очередное сокращение площади сельскохозяйственных угодий, их зарастание лесом и заболачивание. Речь идет о более глубоком явлении — разрушении созданного за многие сотни лет сельского культурного ландшафта: с разными типами угодий, постройками, дорогами, участками леса, плотинами, искусственными водоемами и т. п.
Картина формирования системы расселения будет неполной, если не оценить динамику общей численности населения рассматриваемой территории. Речь может идти только об оценке, потому что данные по населению региона до начала XIX в. отрывочны и зачастую противоречивы. Наименее полны данные по периоду запустения конца XVI — начала XVII в. Задача осложняется тем, что интересующий нас регион далеко не всегда очерчивался государственными или административными границами.