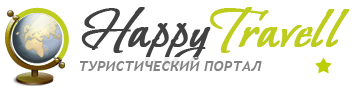В-третьих, на бедных минеральными и органическими веществами пебжах и ПГО может произрастать крайне ограниченный набор видов растений — об этом говорит флористический состав сосновых лесов исходных ландшафтов. Характер субстрата способствует формированию в карьерах лесов с преобладанием сосны, тем более что источники семян этой породы вблизи песчаных карьеров всегда имеются. Естественное зарастание песчаных карьеров в некоторых своих чертах сходно с процессами лесовозобновления на местах сплошных рубок и пожаров в аналогичных ландшафтах. Что касается формирования почв, то, как мы видели в разд. 1.2.7, на перемытых песках под лесной растительностью оно занимает первые десятки лет. При этом вновь образованная почва на днище или склоне карьера будет почти такой же маломощной и бедной, как и почва ненарушенного местоположения.
В-третьих, на бедных минеральными и органическими веществами пебжах и ПГО может произрастать крайне ограниченный набор видов растений — об этом говорит флористический состав сосновых лесов исходных ландшафтов. Характер субстрата способствует формированию в карьерах лесов с преобладанием сосны, тем более что источники семян этой породы вблизи песчаных карьеров всегда имеются. Естественное зарастание песчаных карьеров в некоторых своих чертах сходно с процессами лесовозобновления на местах сплошных рубок и пожаров в аналогичных ландшафтах. Что касается формирования почв, то, как мы видели в разд. 1.2.7, на перемытых песках под лесной растительностью оно занимает первые десятки лет. При этом вновь образованная почва на днище или склоне карьера будет почти такой же маломощной и бедной, как и почва ненарушенного местоположения.
Итак, при отсутствии прочих воздействий заброшенные песчаные карьеры развиваются по пути «конвергенции» с окружающими ланд —
Шафтами камовых комплексов и песчаных равнин; этому способствуют и мероприятия по рекультивации. Например, карьер, вскрывший камовую возвышенность близ пос. Шапки, через 35—40 лет после прекращения добычи уже нелегко отличить от окружающих ландшафтов. Здесь сформировались 30—40-летние леса из сосны, березы, серой ольхи и ели, полностью задерновалась поверхность песков, обрели относительно стабильную береговую линию водоемы, где устроены пляжи. Задернению песчаных карьеров и зарастанию их лесом обычно препятствует человек. Карьеры, где промышленные разработки прекращены, еще долго пользуются вниманием у «индивидуалов» как источник бесплатного стройматериала. Зимой здесь прокладывают лыжные трассы, особенной популярностью пользуются безлесные крутые склоны. Наконец, кто в детстве не играл в песчаном карьере, ведь здесь можно так далеко прыгнуть!
Все сказанное свидетельствует о том, что песчаные карьеры не вызывают и эстетического протеста у большинства людей; можно даже предположить, что подсознательно они «включаются» в образы соответствующих ландшафтов.